Профориентация в системе социального волонтерства
Поступила: 03.02.2017
Принята к публикации: 21.02.2017
Дата публикации в журнале: 30.03.2017
Страницы: 45-55
DOI: 10.11621/npj.2017.0106
Ключевые слова: социальное волонтерство; профориентация; «вынужденное волонтерство» профконсультантов; личностные смыслы
Доступно в on-line версии с: 30.03.2017
Пряжников Н. С., Алмазова, О.В., Чурбанова С. М. (2017). Профориентация в системе социального волонтерства. Национальный психологический журнал, (1) , 45-55. https://doi.org/10.11621/npj.2017.0106
Скопировано в буфер обмена
СкопироватьАннотация
В статье рассматриваются возможности и ограничения профориентационной работы в системе социального волонтерства. Отмечается, что в психологическом и нормативно-правовом аспектах само понятие «социальный волонтер» недоопределено и противоречиво. Сущность волонтерской работы увязывается с помощью отчаявшимся людям в поиске смыслов жизни, которые часто совпадают с трудовой деятельностью, понимаемой как «главное дело жизни» и как «ведущая деятельность»: для подростков – это профессиональное самоопределение, а для взрослых – это собственно трудовая деятельность (как важнейшее условие личностной самореализации). Для уточнения терминов «волонтер» и «человек, остро нуждающийся в помощи» в исследовании применялся метод анализа документации – «Положения о социальном волонтерстве», обобщение психологических источников, первичный опрос студентов вузов, как активных сторонников волонтерского движения, что позволило выявить их представления о сущности волонтерства и о месте профориентации в бескорыстной социальной работе. Показано, что профориентация не исключается из общей системы волонтерского движения, но имеет недостаточно определенный статус и невысокую популярность среди участников социального волонтерства. Также обозначается проблема «вынужденного волонтерства» самих специалистов по профориентации, которым часто приходится добровольно и бескорыстно выполнять качественную работу за рамками официальных указаний. При этом отмечаются и положительные моменты таких бескорыстных профессиональных инициатив, в частности, меньший контроль со стороны официальных проверяющих (или заказчиков) и, соответственно, большая свобода творчества, чем при выполнении кем-то запланированных работ.
Проблема исследования, уточнение понятий «волонтер» и «человек, особо нуждающийся в помощи»
Смысл социального волонтерства в добровольной помощи особо нуждающимся людям: больным, инвалидам, старикам, жертвам террористических актов и насилия, беженцам и пр. на бескорыстной основе (Джумагалиева, 2011; Кострикин, 2010; Олчман, Джордан, 1997; Потапова, 2007). В таком понимании волонтерами не являются врачи, психологи-консультанты, психотерапевты, пожарники, спасатели, военные, поскольку они получают зарплату за свою, несомненно, очень важную и непростую работу.
Однако сами понятия «волонтер» и «человек, остро нуждающийся в помощи» до конца не определены. Понятие «социальный волонтер» во многом пока еще противоречиво как на психологическом уровне, так и на уровне его нормативно-правового статуса. Например, может ли считаться волонтером человек, который реально помогает другим, оказывая первичную медицинскую помощь, но сам при этом не имеет соответствующей квалификации и компетенции для соответствующей работы? Или, другой пример – можно ли считать волонтером человека, который до конца не осознает значимости оказываемой другим людям помощи, когда он участвует в волонтерских акциях скорее «за компанию» со своими одноклассниками или однокурсниками, реально помогая нуждающимся, но делая это не из добрых побуждений, а лишь для того, чтобы его не считали «черствым», «равнодушным», «ленивым», при этом в душе, быть может, и, проклиная себя и своих друзей за такую («непонятную» ему самому) активность.
Наиболее сложный пример – является ли волонтером человек, осознающий абсурдность своих искренних благородных устремлений помогать конкретным людям на фоне недостаточного внимания государства по отношению к тысячам и миллионам таких же нуждающихся. Здесь можно вспомнить многочисленные призывы известных людей (далеко не бедных, судя по их популярности и статусу) – собрать «с миру по нитке» на операцию ребенку, «без чего он может просто умереть». И это происходит в обществе, где тысячи долларовых миллионеров и миллиардеров покупают себе бестолковые безделушки (яхты, дворцы, роскошные авто и т.п.) за десятки и даже сотни миллионов долларов. Нехитрые арифметические расчеты показывают, что за такие деньги можно было бы спасти тысячи детей, нуждающихся в сложных и дорогостоящих операциях…
Быть может, разновидностью нового социального волонтерства могла бы стать активность молодых людей, направленная на «воспитание» и «перевоспитание» миллионеров и миллиардеров, на пробуждение их совести и сострадания, а может, и на побуждение «государевых людей» к совершенствованию законодательства и развитию социальных гарантий в деле помощи нуждающимся людям? А еще лучше – на культивирование идеи сокращения числа таких нуждающихся через повышение уровня жизни разных категорий населения, в разных регионах страны…
Но для самих волонтеров важен и другой смысл – возможность проявлять и развивать свои самые добрые чувства, помогая другим людям, чтобы на этой основе повысить чувство собственного достоинства и ощутить себя состоявшейся личностью. Здесь уместно вспомнить и рассуждения А.Г. Асмолова о «культуре достоинства», суть которой выражается в том, чтобы делать добрые дела «просто так», а не «потому что…», т.е. не ради какой-то «выгоды» для себя (последнее уже больше соотносится с «культурой полезности»). Чем чаще человек делает что-то «просто так», ориентируясь на саму идею бескорыстного добра, тем в большей степени он может считаться зрелой личностью (Асмолов, Нырова, 1993).
Не менее сложные вопросы возникают и с определением «людей, особо нуждающихся в помощи». Например, всегда ли человек, реально нуждающийся в помощи, захочет ее получать от кого-то. Нам известны случаи с пенсионерами, получающими в провинциальном городе нищенскую пенсию, но принципиально отказывающимися от любой материальной поддержки, будучи гордыми людьми. Есть немало людей (особенно, старшего поколения), которые искренне считают, что помогать им должны не волонтеры, а реально действующая система государственного медицинского и социального обеспечения, что выплачиваться им должны достойные пенсии (как в «цивилизованных странах») и т.д. Их главные аргументы заключаются в том, что, во-первых, они бескорыстно отдали лучшие свои годы родной стране (работая в народном хозяйстве или сражаясь за Родину) и, во-вторых, Россия является достаточно богатой страной и может себе позволить не экономить на пенсионерах и инвалидах, тем более, что в стране довольно много долларовых миллионеров и миллиардеров. На этом фоне любые «пожертвования» могут восприниматься частью реально нуждающихся людей как «унизительные подачки».
Если нуждающийся человек и принимает волонтерскую помощь, он может во внутреннем плане сильно переживать свое «падение», свою зависимость от различных «благодетелей». Некоторые гордые люди, реально нуждающиеся в поддержке, воспринимают такую ситуацию, как своеобразное «предательство» общества, если вместо гарантированной поддержки (государственной, а не волонтерской) они зависят от благосклонности благотворительных фондов и организаций или от счастливого стечения обстоятельств, когда именно в их районе (городе или регионе) кто-то о них вспомнит. Правда, даже гордые люди, остро нуждающиеся в помощи, все же с благодарностью принимают простое человеческое участие, заботу и внимание по отношению к себе. Быть может, именно в этом и состоит настоящая волонтерская поддержка?
Итак, мы можем уточнить задачу исследования. Нам надо ответить на следующие вопросы:
-
Кого можно считать «социальным волонтером» и каковы его сущностные характеристики?
-
Какого человека можно считать именно «особо нуждающимся в волонтерской помощи»?
-
Что является наиболее существенным психологическим условием, позволяющим преодолевать самые сложные жизненные ситуации для большинства людей?
Сложность данных вопросов не позволяет решить их сразу, используя, например, какую-то «апробированную» методику. Важно еще уточнить сам предмет нашего исследования – термины «волонтер» и «человек, остро нуждающийся в помощи». Для этого наиболее подходящими мы сочли анализ документов «Положения о социальном волонтерстве», соответствующих исследований, опроса студентов (наиболее активных участников волонтерских акций) и их представлений о сущности волонтерства.
Профессиональное и личностное самоопределение как условие гармонии человека с миром и самим собой
Сложные жизненные ситуации часто бывают связаны с конфликтами, фрустрациями, страхами, стрессами (дистрессами) (Василюк, 1984; Селье, 1992), «эмоциональным выгоранием» (Пряжников, Ожогова, 2014), «биографическими кризисами» (Ахмеров, 1994), с состояниями «отчаяния» и «утратой жизненных смыслов» (В. Франкл), «утратой идентичности» (Эриксон, 2000), с иррациональными влечениями и различными зависимостями (алкогольной, наркотической, компьютерной) и др.
Интересны рассуждения Г. Селье, который в качестве «главного способа профилактики и преодоления дистресса» предлагает выбрать себе любимую профессию и «быть с ней на дружеской ноге», чтобы она позволяла человеку реализовать себя на общее благо, и тогда все остальные невзгоды отойдут на второй план (Селье, 1992, С. 90–92). Похожие рекомендации дает и Э. Фромм, призывая преодолевать «отчужденный характер» с помощью главного дела жизни – любимой и социально ценной профессии (Фромм, 1990). В. Франкл, рассуждая о целостности человеческой жизни, связывает ее с обретением особого смысла, когда прошлое, настоящее и будущее взаимодополняют друг друга, и когда прежние ошибки человек готов переосмыслить и обрести, таким образом, новый опыт (Франкл, 1990), а это уже близко к идее планирования своей жизни и карьеры. Дж. Роулз выделяет в качестве «первичной ценности» чувство собственного достоинства.
Интересны также рассуждения Р.А. Ахмерова о преодолении сложных жизненных ситуаций – «биографических кризисов». Он считает, что важнейшими условиями преодоления таких кризисов является следующее:
-
деятельность, позволяющая человеку полноценно реализовать свой потенциал в любимой работе;
-
трудовая деятельность, препятствующая опустошенности, связанной с бестолковой и социально сомнительной работой;
-
планирование жизни и карьеры таким образом, чтобы эти планы всегда были оптимистичными и реализуемыми (Ахмеров, 1994).
Похожие идеи, связанные с важной ролью профессионального труда в преодолении сложных жизненных ситуаций можно найти у многих других авторов (Зеер, 2006; Климов, 1998; Пряжников, 2016; Сыманюк, 2005 и др.). Понятно, что и эту идею социальной реабилитации трудом нельзя доводить до абсурда. Надо помнить о том, что по-настоящему развивает и облагораживает не любой труд (рутинный, изнурительный), а именно труд творческий и разнообразный, способствующий развитию «гармонично развитого индивида» (по К. Марксу).
Таким образом, можно отметить, что большинство авторов, так или иначе, связывают преодоление сложных жизненных ситуаций с выбором привлекательной (в идеале – любимой) профессии и планированием оптимистичных жизненных и профессиональных перспектив. Это касается не только подростков, для которых профессиональное самоопределение – новообразование «ведущей деятельности», но и взрослых, для которых «ведущей деятельностью» уже является профессиональный труд (как «главное дело жизни»). К этому можно добавить и то, что для многих пожилых людей «ведущей деятельностью» является осмысление прожитого и «свершенного» (или «не свершенного») в плане самореализации (или в «недосамореализации») через «ведущую деятельность».
Это означает, что главной причиной отчаяния многих людей, остро нуждающихся в волонтерской поддержке (на разных этапах жизни), является утрата жизненного и карьерного оптимизма, как при планировании жизни, так и при ее осмыслении. Основным («генеральным») направлением помощи таким людям должна стать именно профориентация или ее элементы, совмещенные с другими видами социально-медико-психологической помощи.
Социальное волонтерство и «границы» его использования в представлениях студентов
Мы проанализировали более двадцати «Положений о социальном волонтерстве» (касающихся отдельных регионов, конкретных центров и образовательных учреждений) и лишь в пяти из них нашли упоминание о профориентации. Только в одном положении мы обнаружили термин «профориентационное волонтерство» (Андреев, 2014).
Нередко вопросы трудоустройства молодежи рассматриваются в рамках «корпоративного волонтерства» (Крейнин, Власова, Белановский, 2016).
Не нашли мы упоминаний о профориентации и в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», на который часто ссылаются те, кто рассуждает о волонтерском движении. Примечательно, что на Всероссийской конференции по социальному волонтерству, проведенной в Тюмени в феврале 2016 года, из 66 докладов только в одном выступлении прозвучала тема профориентации (Журавлев, 2016), хотя иногда звучали близкие темы о «социальной адаптации», о «работе с мигрантами» и пр. (Программа Всероссийской конференции …, 2016). Все это позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, профориентацию не исключают из общей системы волонтерского движения, но с другой стороны, ее статус недостаточно определен, имеет место ее невысокая популярность в представлениях организаторов и участников волонтерского движения.
Не утихают споры по поводу общего понимания и статуса социального волонтерства, причем эти вопросы являются не однозначными не только в России, но и в других государствах (Борисова, 2011; Кострикин, 2009; Олчман, Джордан, 2014; Трохина, 2012; Шекова, 2002). Например, на уже упомянутой Всероссийской конференции в Тюмени, Павел Астахов (бывший тогда Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка) в своем выступлении «О роли и задачах волонтерского движения и реализации государственной политики в интересах детей» отметил, что правовой статус волонтера до конца еще не определен (Программа Всероссийской конференции …, 2016). Иногда вообще высказывается сомнение в том, нужен ли специальный закон о волонтерском движении, не будет ли он «забюрократизированным» и не извратит ли он саму идею добровольности и бескорыстности (Романовская, 2013).
В связи с этим, важно выяснить представления о социальном волонтерстве самих студентов, которые (иногда вместе со старшеклассниками) являются юосновными субъектами волонтерского движения.
С помощью специальной анкеты мы опросили 111 человек, из них 22 мужчины и 89 женщин. Часть респондентов (18 человек) – студенты старших курсов факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, остальные – слушатели факультета педагогического образования (ФПО) МГУ. Все они обучались по разным специализациям, имели разное базовое образование и возраст. По многим вопросам мы просили наших респондентов также оценить свою уверенность в ответах. Различия в ответах студентов оценивались с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. В целом, были получены следующие результаты (см. таблицу 1), отражающие общее представление студентов о социальном волонтерстве.
Табл. 1. Обобщенные результаты опроса студентов, отражающие их представления о социальном волонтерстве
|
Вопрос 1 |
Да |
Нет |
|
Есть ли у Вас опыт участия в социальном волонтерстве? |
46,8 % |
53,2 % |
|
Среднее и стандартное отклонение готовности заниматься волонтерской деятельностью у респондентов с опытом и без опыта (в процентах) |
Me=66,2 SD=20,4 |
Me=50,5 SD=22,7 |
|
В целом, готовность заниматься волонтерской деятельностью респондентов колебалась от 0 до 100% (Me=57,78; SD=22,89). |
||
|
Вопрос 2 |
Да |
Нет |
|
Возможно ли «частичное волонтерство» у профессионалов? |
76,1 % |
23,9 % |
|
Среднее и стандартное отклонение того, насколько можно считать профессионалов волонтерами (в процентах) |
Me=71,5 SD=22,4 |
Me=16,6 SD=18,5 |
|
Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами на вопрос) есть значимые различия в оценке того, насколько профессионалов можно считать волонтерами (U=98,0; p=0,000, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок), что является ожидаемым результатом. |
||
|
Вопрос 3 |
Да |
Нет |
|
Нужно ли социальное волонтерство в стране с развитыми социальными программами? |
84,7 % |
15,3 % |
|
Среднее и стандартное отклонение уверенности в ответе (по 10-балльной шкале) |
Me=8,1 SD=1,9 |
Me=6,4 SD=2,3 |
|
Сами оценки уверенности в ответе значимо различаются у респондентов, дающих разные ответы на этот вопрос (U=452,0; p=0,004, критерий Манна- Уитни для двух независимых выборок). Таким образом, уверенность в ответе на этот вопрос значимо ниже у тех респондентов, которые считают, что социальное волонтерство не нужно в стране с хорошо развитыми социальными программами. |
||
|
Вопрос 4 |
Да |
Нет |
|
Как Вы считаете, социальное волонтерство возможно вне специальной организации (как инициатива самих людей) или волонтерами обязательно кто-то должен управлять? |
74,9 % |
25,1 % |
|
Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих ответах (по 10-балльной шкале) |
Me=8,7 SD=1,6 |
Me=7,8 SD=2,4 |
|
По критерию Манна-Уитни для двух независимых выборок нет значимых различий в оценке уверенности в ответе на этот вопрос между теми, кто думает, что волонтерство возможно вне организации и теми, кто считает, что – нет (U=923,0; p=0,106). |
||
|
Вопрос 5 |
Да |
Нет |
|
Нужна ли волонтеру специальная профессиональная подготовка? |
61,1 % |
38,9 % |
|
Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих ответах (по 10-балльной шкале) |
Me=7,4 SD=2,1 |
Me=7,8 SD=1,7 |
|
Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами на вопрос) также нет значимых различий в оценке уверенности в выборе варианта (U=998,5; p=0,450, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок). |
||
Отвечая на вопрос, «чем принципиально отличается социальное волонтерство от общественной работы? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе», студенты давали преимущественно следующие ответы:
-
волонтерство – это работа по желанию (34,2%);
-
отличается направленностью работы (31,6%);
-
волонтерство не предполагает оплаты (12,6% выборки);
-
нет отличий (12,6%);
-
мотивы и цели разные (9,0%).
Данные ответы показывают, что многие респонденты не видят принципиальной разницы между волонтерством и общественной работой. Заметим, что общественная работа кем-то организуется, а, следовательно, должна быть как- то организована и волонтерская деятельность. Здесь мы наблюдаем некоторое противоречие в ответах. Например, подавляющее большинство респондентов ответили, что волонтерство не нуждается в какой-либо организации (см. табл. 1, вопрос 4), а на вопрос о том, нужна ли волонтерам специальная подготовка (подразумевается, что кто-то должен специально ее организовать и сертифицировать) большинство ответило «да» (см. табл. 1, вопрос 5).
Но нас, прежде всего, интересовали представления студентов о месте профориентации в социальном волонтерстве. Среди прочих, нашим респондентам был задан вопрос: «Назовите направления работы, где могут помочь только волонтеры (где второстепенным является даже финансирование). Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе». В качестве основных направлений работы, где могут помочь только волонтеры, участники нашего исследования указывали такие варианты [1]:
-
эмоциональная поддержка и помощь пожилым людям (39,6% выборки);
-
эмоциональная поддержка и помощь больным людям (больницы, хосписы и т.п.) (30,9%);
-
работа в детских домах (13,5%);
-
помощь людям, попавшим в беду (11,7%);
-
нигде (10,8%);
-
помощь бедным (7,2%);
-
работа на крупных мероприятиях (7,2%);
-
работа в приютах для животных (5,4%);
-
там, где нет финансирования (4,5%);
-
работа с «зависимыми» людьми (алкоголь, наркотики, игры и пр.) (2,7%);
-
сохранение памяти (1,8%);
-
везде (2,7%).
При этом средняя уверенность в ответах была 6,7 (стандартное отклонение – 2,6).
Заметим, что специально никто из наших респондентов не выделил профориентацию как отдельное направление работы волонтеров, что в целом соответствует отношению к профориентации, выявленному нами в ходе анализа работ по психологии и «Положений о социальном волонтерстве» на уровне отдельных регионов, образовательных учреждений и центров (см. выше). Но далее студентам были заданы «наводящие» вопросы о месте профориентации в системе социального волонтерства, и мы получили следующие ответы (см. табл. 2 и 3, рис. 1).
Чтобы определить, имеют ли респонденты представление о профориентационной работе, мы задали им вопрос: «Проводилась ли с Вами лично профориентационная работа (в школе, в вузе)? Оцените по 10-балльной шкале уровень развития профориентации в стране». Ответы представлены в таблице 2.
Табл. 2. Распределение ответов респондентов о профориентационной работе в их школах
|
Вопрос |
Да |
Нет |
|
Проводилась ли с Вами профориентационная работа? |
53,2 % |
46,8 % |
|
Среднее и стандартное отклонение оценки развитости профориентации в России (по 10-балльной шкале) |
Me=3,6 SD=1,6 |
Me=2,9 SD=1,9 |
Как видно из таблицы 2, профориентация в каком-либо виде проводилась с 53,2% респондентами нашей выборки. Значимо различаются оценки уровня развития профориентации респондентами из двух групп: в первую вошли те, с которыми она проводилась, а во вторую те, у кого не было профориентации ни в каком виде (U=1107,5; p=0,023, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
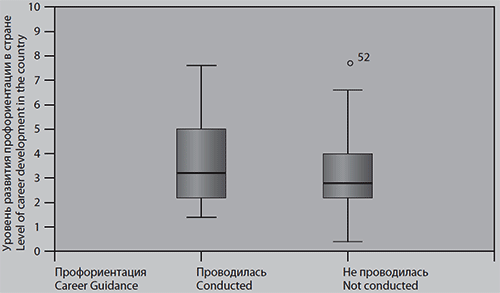
Рисунок 1. Диаграмма разброса оценок уровня развития профориентации в России у разных групп респондентов: с кем проводилась профориентация и с кем не проводилась.
На рисунке 1 представлена диаграмма разброса оценок по этому вопросу для указанных групп респондентов. Видно, что респонденты из второй группы оценивают уровень развития профориентации в нашей стране значимо ниже, чем из первой.
Как показывают результаты (см. табл. 2), примерно с половиной респондентов какая-то профориентационная работа проводилась, но даже эти респонденты указывают на очень невысокий уровень уверенности в своих ответах (см. рис. 1). Это свидетельствует о больших проблемах с практической профориентацией в нашей стране, а также о том, что многие респонденты не имеют представления о том, что такое настоящая, эффективная профориентация.
Также студентам был задан и другой вопрос: «Могут ли волонтеры оказывать профориентационную помощь (и какую именно)? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе». Результаты представлены в таблице 3.
Табл. 3. Распределение ответов респондентов о принципиальной возможности для волонтеров заниматься профориентационной работой
|
Вопрос |
Да |
Нет |
|
Могут ли волонтеры оказывать профориентационную помощь? |
77,3 % |
22,7 % |
|
Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих ответах (по 10-балльной шкале) |
Me=7,7 SD=2,1 |
Me=7,9 SD=2,1 |
Между двумя группами респондентов (с разными ответами на данный вопрос) нет значимых различий в оценке уверенности в выборе варианта (U=980,0; p=0,668, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
Учитывая результаты ответов на предыдущий вопрос – об основных направлениях работы социальных волонтеров (см. выше) мы можем сказать, что большинство респондентов плохо представляют себе, что такое настоящая профориентационная работа. Поэтому, когда большинство респондентов (77,3%) считают, что волонтеры должны заниматься профориентацией, то возникает сомнение в том, представляют ли они в полной мере, что это такое, и какая для этого нужна подготовка самих волонтеров? С одной стороны, мы приветствуем стремление волонтеров поддерживать развитие профориентации, пусть и на добровольном («волонтерском») уровне. Но с другой стороны, ответы наших респондентов отражают несколько наивное представление о реальной сложности профориентационной работы.
Проблема профориентационной подготовки волонтеров и «вынужденное волонтерство» профессионалов-психологов
Есть нечто общее, «роднящее» социальное волонтерство и современную российскую профориентацию – это неопределенность правового статуса и отсутствие внимания со стороны властей на фоне высокой общественной значимости и усиливающейся потребности со стороны общества в такой работе. Эта ситуация нередко порождает дилетантизм при организации внешне эффектных мероприятий в рамках различных «проектов». Поэтому необходимо повышение качества подготовки специалистов в области профориентации (психологов, специалистов в сфере профессионального и лич¬ностного самоопределения).
Современная профориентация предполагает не только тестирование и оценку профпригодности, но и постепенную подготовку личности к самоопределению, а, главное, – развитие готовности к нравственному и гражданскому самоопределению, когда сама профессиональная деятельность рассматривается как важнейшее условие самореализации (в «главном деле жизни»), при обязательном сочетании личных и общественных интересов (Климов, 1996; Пряжников, 2016).
Важно при этом разобраться, какие специалисты по профориентации востребованы. Для представителей современной «правящей элиты» профориентация фактически является одной из форм пропаганды «рыночных отношений» (идея быстрого обогащения через «проектную деятельность») и соответствующей пропаганды «востребованных на рынке» профессий. Эти формы часто реализуется через эффектные и хорошо финансируемые мероприятия (форумы, конференции, круглые столы и т.п.). Появился даже термин «мероприятийный подход» в профориентации. Ярким примером этого является популярная во всем мире программа WorldSkills International, предполагающая возможность для школьников пробовать себя в наиболее престижных и «востребованных» профессиях.
Как отмечают, В.И. Блинов и И.С. Сергеев, с момента вхождения Российской Федерации в Международное движение WorldSkills International (2012 г.) в регионах России осуществляется активное продвижение конкурса профессионального мастерства WorldSkills («Молодые профессионалы»). Конкурсы WorldSkills позиционируются как наиболее современное, эффективное и едва ли не исчерпывающее средство профориентации. Но при этом, к сожалению, часто человек рассматривается не как растущая и развивающаяся личность, определяющая в ходе профессионального выбора свою судьбу, а всего лишь как будущий работник, выступающий своего рода приложением к современным технологиям и средствам производства. Профориентация указывает ему, что нужно выбрать, «приложением» к чему именно ему предстоит стать. Так выглядит схема профессиональной ориентации, построенной на основе конкурсов WorldSkills Russia, в том случае, если она не дополнена другими необходимыми элементами профориентационной системы (Блинов, Сергеев, 2016).
В этом контексте волонтеры часто сами могут выступать «приложением» к разного рода эффектным профориентационным мероприятиям, не до конца понимая сущности и сложности настоящей профориентации. Последняя предполагает постепенное формирование молодого человека как полноценного субъекта профессионального и личностного самоопределения. Только в таком случае можно решать проблемы полноценной самореализации личности (а не только «зарабатывания денег» в «престижных» на данный момент сферах, которые нравятся высшему руководству), а также, выходить на сложнейшие проблемы обретения особых смыслов, которые могут помочь человеку в случае многочисленных сомнений, кризисов и отчаяния. Мероприятия, а-ля WorldSkills International могут служить только дополнением к такой настоящей профориентации, но не его заменой.
В итоге мы видим, что сложность и важность профориентации требуют более серьезной подготовки к ней волонтеров, но пока такую (качественную) подготовку обеспечить не удается. Возникает проблемный вопрос: быть может, лучше согласиться с тем, что волонтеры должны работать лишь как «исполнители» в проектах типа WorldSkills International?
Проблема «вынужденного волонтерства» среди профессионалов, занимающихся профориентацией
К сожалению, и специалисты-профессионалы (практики, преподаватели, ученые, методологи и др.) не всегда находят себе применение в сложившейся «профориентационной конъюнктуре». Практикам обычно не дают возможность проводить более сложные профконсультации, игры, дискуссии и т.п. часто по причине недостатка времени. Но этого времени хватает на тестирование, информирование и другие яркие мероприятия (для отчетности). Преподаватели нередко вынуждены ориентировать студентов на сложившуюся практику. А ученые и методологи, в лучшем случае, обсуждают реальные проблемы профориентации и кадровой политики в стране лишь в своем кругу, а обычно пишут скучные отчеты в рамках грантов и проектов, за получение которых нередко идет настоящая «конкурсная» борьба («финансирование достается самым лучшим!»).
В такой ситуации часть профконсультантов, преподавателей и профориентологов (ученых, методологов), помимо своей обязательной работы (а, точнее, сверх), уже по своей инициативе занимаются настоящей профориентационной практикой или настоящими (ориентированными на реальные проблемы) теоретическими разработками. Здесь возникает особая проблема – нахождение времени на настоящую профориентацию у школьников и их родителей. Это даже побудило ряд исследователей ввести понятие «досуговая профориентация», в рамках которой можно себе позволить не в ущерб обязательной (и часто «заформализованной») профориентации, выходить на более важные вопросы профессионального и личностного самоопределения (Пряжников, Сергеев, 2015).
Сложная проблема возникает и у специалистов, занимающихся профориентацией. Они, с одной стороны, обязаны выполнять одобряемую начальством профориентационную работу, которая, к сожалению, пока еще остается на примитивном уровне, а, с другой стороны, чтобы не деградировать как специалисты, должны находить время и для настоящей профориентации. Это уже побуждает говорить о творческой самореализации профконсультантов, преподавателей и ученых-профориентологов в рамках досугового самоопределения школьников (Пряжников, Сергеев, 2015а).
Такое «досуговое» творчество имеет некоторые недостатки. В частности, специалистам приходится работать без соответствующего финансирования, коллеги и руководство могут обвинить их в дилетантизме (данные разработки «не одобрены» свыше) и пр. Имеется также риск, что сами практики и исследователи окажутся неадекватными (без конструктивной критики и самокритики). Но есть и позитивные моменты: свобода творчества, независимость от финансирования (нет денег, зато нет и забюрократизированного контроля), возможность постоянно дорабатывать свои методики и программы (не ориентируясь на ограниченные сроки сдачи отчетов) и др.
Однако здесь следует обозначить важные условия продуктивности такого свободного («досугового») творчества:
-
реальная обратная связь с практиками и коллегами (например, практики апробируют наработки исследователя и своевременно указывают ему на удачные и сомнительные моменты, стимулируют разработчика совершенствовать свои наработки);
-
благожелательная творческая атмосфера в группе творческих единомышленников (когда после неизбежных ошибок не возникает желания вообще отказаться от творчества, а, наоборот, на основе моральной и интеллектуальной поддержки единомышленников находить в себе силы для последующего творчества);
-
волевые качества творческого профконсультанта, преподавателя или ученого, готового к творчеству даже при отсутствии коллег-единомышленников;
-
чувство меры, адекватности и внутренние моральные запреты на «чрезмерное экспериментирование» с самоопределяющимися школьниками, что предполагает хорошую этическую подготовку специалиста (Пряжников, 2004).
Например, многие методики и пособия, которые не раз переиздавались (Пряжников, 1996, 2002, 2012, 2016), мы разрабатывали фактически добровольно и, как правило, получали за них небольшие гонорары в редакциях. Но при этом мы имели реальную «обратную связь» и от профконсультантов-практиков (из многих центров страны), и от коллег- преподавателей, читающих профориентационные курсы в разных вузах, и от коллег-ученых, включая обсуждение работ на различных конференциях (международных, всероссийских и региональных).
Итак, мы имеем парадоксальную картину, когда «волонтерами», работающими добровольно (на основе внутренней потребности), квалифицированно и бескорыстно (за сверхурочную работу им обычно не платят) вполне могут быть профессиональные педагоги и психологи. За свою официальную зарплату они выполняют определенную работу, но у них она вызывает чувство «недореализованности». Мы предполагаем, что таких специалистов, готовых к сверхнормативному и бескорыстному труду много не только в педагогике и психологии. Это позволяет, даже в условиях не всегда качественного менеджмента на всех уровнях, оптимистично смотреть на развитие отечественного образования, науки и, в частности, на развитие профориентации на основе такого необычного, и в чем-то даже «вынужденного волонтерства» специалистов.
Примечания:
1.Общее число более 100%, так как часть респондентов называли более, чем одну область.
Литература:
Андреев А.В. Положение о профориентационном волонтерстве в ГАОУ СПО СО «Уральский политехнический колледж – УПК» (о волонтерах- профориентаторах). Рассмотрено и утверждено на заседании Студенческого совета ГАОУ СПО СО «УПК» (протокол № 16 от 08.12.2014). – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://infourok.ru/polozhenie-o-proforientacionnom-volontyorstve-v-volonterahproforientatorah-1037325.html (дата обращения: 20.07.2016).
Асмолов А.Г., Нырова М.С. Нестандартное образование в изменяющемся мире: культурно-историческая перспектива. – Новгород: АО «Новгород», 1993.
Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности : автореферат дис. … кандидата психологических наук ; [Институт психологии РАН] – Москва,1994.
Блинов В.И., Сергеев И.С. Движение WorldSkills Russia как инструмент профориентации: выгоды и риски // Теория и практика воспитания: педагогика и психология : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, 7–8 июня 2016 г. – Москва : Изд-во МПСУ, 2016. – С. 249–252.
Борисова Т.С. Активность и инициативность как основа формирования социальной ответственности учащейся молодежи // Вестник ТГПУ. – 2011. – Вып. 1 (103). – С. 131–136.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – Москва : Изд-во МГУ, 1984.
Джумагалиева Г.Р. Внедрение волонтерской практики в процесс подготовки бакалавров социальной работы // Многоуровневая подготовка в вузе: современные проблемы, инновационные технологии обучения : материалы III научно-методической конференции, 29–30 марта 2011 г. / науч. ред. Стефанова Г.П. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2011.
Журавлев Р. Профессор Пряжников на тюменской конференции волонтеров. Как получилось, что в стране с богатейшими ресурсами, нет денег на лечение детей? – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://park72.ru/socium/85463 – (дата обращения: 24.05.2016).
Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – Москва : Академия, 2006.
Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. – Москва : Изд-во МГУ, 1983.
Климов Е.А. Введение в психологию труда. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996.
Кострикин А. В. Социальная активность и самоорганизация молодежи как фактор социальной адаптации // Адаптационные возможности молодежи в современном российском обществе : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 17 ноября 2009 г. / науч. ред. Ю.В. Манько. – Санкт-Петербург : СПГУТД, 2009. – С. 344–346.
Кострикин А. В. Технологии повышения социальной активности молодежи и деятельность молодежных общественных объединений // Технологии реализации молодежной политики и работы с молодежью в современном мире : двуязычный сборник тезисов международной конференции. – Москва : МГГУ им. М.А. Шолохова, 2010. – С. 183–187.
Крейнин О., Власова Н., Белановский Ю. Эксперты о корпоративном волонтерстве. Мнение специалиста в сфере HR. [Электронный ресурс] // Филантроп : электронный журнал о благотворительности : [сайт]. URL: http://philanthropy.ru/opinion/2016/04/11/36554/#.V5BjfdHWjIU (дата обращения: 21.07.2016).
О программе JuniorSkills. [Электронный ресурс] // WorldSkills Russia. Молодые профессионалы : [сайт]. URL: http://worldskills.ru/juniorskills/ (дата обращения: 15.05.2016).
Олчман М., Джордан П. Основные понятия добровольчества // М. Олчман, П. Джордан Добровольцы – ценный источник. – Университет Джона Хопкинса, 1997. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=82&id=639809 (дата обращения: 21.09.2014).
Потапова Н.А. Волонтерство как феномен самореализации личности : сб. науч. трудов // Вестник МГОУ. – 2007. – № 3. – С. 95–140.
Программа Всероссийской конференции «Социальное волонтерство в России: перспективы развития, опыт регионов», 8–9 февраля 2016 г. – Тюмень : Правительство Тюменской области, 2016.
Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. – Москва : Институт практической психологии; Воронеж : МОДЭК, 2002.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – Москва : Институт практической психологии; Воронеж : МОДЭК, 1996.
Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. – Москва : Академия, 2012.
Пряжников Н.С. Профориентация в системе управления человеческими ресурсами. – Москва : Академия, 2014.
Пряжников Н.С. Профориентология. – Москва : Юрайт, 2016.
Пряжников Н.С. Этические проблемы психологии. – Москва : Изд-во МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2004.
Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г. Эмоциональное выгорание и личностные деформации в психолого-педагогической деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14 – Психология. – 2014. – № 4. – С. 33–43.
Пряжников Н.С., Сергеев И.С. Возможности творческой самореализации педагогов и профконсультантов в досуговом самоопределении школьников [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015а. – № 5 : [сайт]. URL : http://www.science-education.ru/128-21674 (дата обращения: 16.09.2015).
Пряжников Н.С., Сергеев И.С. Досуговое самоопределение в системе профориентационной работы [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015б. – № 4 : [сайт]. URL: http://www.science-education.ru/127-20959 (дата обращения: 30.07.2015).
Романовская Д.И. Закон о волонтерстве не остановит волонтерства. [Электронный ресурс] // Милосердие:православный портал о благотворительности : [сайт]. URL://www.miloserdie.ru/article/zakon-o-volonterstve-ne-ostanovit-volonterstva (дата обращения: 21.07.2016).
Селье Г. Стресс без дистресса. – Рига : Виеда, 1992.
Социальная активность [Электронный ресурс] // Psyera: гуманитарно-правовой портал : [сайт]. URL: http://psyera.ru/socialnaya-aktivnost-649. htm/ (дата обращения: 07.11.2014).
Социальная активность молодежи : аналитический обзор результатов проведенных социологических исследований. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.zircon.ru/upload/iblock/3a3/081117.pdf (дата обращения: 07.11.2014).
Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. Практико-ориентированная монография. – Москва : Изд-во МПСИ, 2005.
Трохина А.В. Занятость волонтеров в России: формирование и регулирование : автореферат дис. … кандидата экономических наук ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2012.
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://base.garant.ru/104232 (дата обращения: 24.09.2014).
Франкл В. Человек в поисках смысла. – Москва : Прогресс, 1990.
Фромм Э. Иметь или быть? – Москва : Прогресс, 1990.
Шекова Е. Л. Труд добровольцев в сфере культуры США и России // Социологические исследования. – 2002. – № 3. – С. 97– 99.
Эриксон Э. Детство и общество. – Санкт-Петербург : Летний сад, 2000.
Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – Москва : Наука, 1978.Пряжников Н. С., Алмазова, О.В., Чурбанова С. М.Профориентация в системе социального волонтерства. // Национальный психологический журнал. 2017. № 1. , 45-55. doi: 10.11621/npj.2017.0106
Скопировано в буфер обмена
Скопировать

